Можно ли оправдать налогообложение?
Sep. 18th, 2021 04:15 pmФилософ Майкл Хьюмер довольно часто выступает как сторонник свободного рынка. Он также является ярым защитником анархизма. Хотя я не согласен с некоторыми его аргументами, должен признать, что “Проблема политической власти” — это отличная книга.
Недавно в своем блоге Хьюмер неожиданно предположил, что налогообложение может быть вполне оправдано в некоторых случаях. Он предлагает два примера: пигувианские налоги на отрицательные внешние эффекты и джорджистские земельные налоги. Начну с первого.
Хьюмер предлагает следующий аргумент в пользу пигувианских налогов (названных в честь кембриджского экономиста А.С. Пигу, — прим.ред.).
( Read more... )Налоги уже давно являются популярной темой для обсуждения. И тем более удивительно, что в отношении налогообложения существует столько вздора и неразберихи.
Хороший способ лучше понять некоторые основы налогообложения — провести аналогию с игрой в вышибалы (игра, общий смысл которой сводится к тому, что команда “вышибал” пытается попасть мячом в команду “водящих” — прим. ред.).
В налоговой игре в “вышибалу” правительство — это тот, кто бросает мяч. Представители правительства всегда настаивают на том, что не хотят никому причинить вред, но сбор налогов в любом случае накладывает бремя на граждан. У них нет собственных ресурсов для финансирования того, что они хотят делать, у них есть только то, что они получают от других людей. Это означает, что декларируемое политиками намерение помогать гражданам является бессмысленным, потому что в любом случае они причиняют вред другим.
“Водящие” в этой игре состоят из двух команд: покупателей/пользователей и продавцов/производителей. Никто из “игроков” не хочет, чтобы на него обрушилось бремя налогов, поэтому они будут уклоняться от них. Их усилия по уклонению обходятся дорого, поэтому эти затраты, связанные с игрой, также должны быть включены в их бремя вместе с изъятыми у них налогами (в налоговой версии игры в “вышибалу” это дополнительное бремя связано с сокращением производства и обмена, которые будут иметь место на этих рынках и уничтожат богатство, которое в противном случае было бы создано). Общий успех игроков в уклонении будет определять частоту, с которой мяч будет попадать в кого-то и налоговые поступления, которые будет собирать правительство, в то время как относительная способность к уклонению покупателей и продавцов будет определять пропорцию бремени, которое будет нести каждая группа.
( Read more... )Налогообложение и грабеж в стиле викингов
Oct. 13th, 2020 06:34 pmВо время посещения выставки, посвященной эпохе викингов в Историческом музее в Стокгольме, я наткнулся на мемориальный рунический камень, который уствновили Скули и Фолки в Торсатре в Уппланде. 1 Этот камень рассказывает об их брате Хусбьорне, который умер от болезни во время сбора налогов в далеком Готланде. Теперь, несколько лет спустя, я нашел фотографии этого камня, и она натолкнула меня на мысль, что этот камень может что-то сказать нам о природе налогов. Короткая руническая надпись также подстегнула мое воображение, и я представил себе нечто вроде следующего:
( Read more... )Должны ли люди платить налоги?
Sep. 24th, 2019 07:52 pmВ продолжение темы о налогах, простое и доступное объяснение, почему налоги носят неправовой характер
После принятия закона о том, что стукачам на предпринимателей будут доплачивать за стукачество (в Украине, прим. моё), в интернетах разгорелся очередной...эээ...спор. Спор по поводу того, считать ли такую практику доносительства “стукачеством”, то есть,делом позорным и бесчестным. Как водится, этот спор, в итоге уперся в понимание налогов - являются ли они просто узаконенным грабежом (и тогда стукачество является стукачеством) или социально необходимым и единственно возможным способом финансировать “общественные блага” ( и тогда доноситель делает благое дело).

В этой колонке я попробую кратко показать, в чем разница между налогом и “скидыванием” на некую общую задачу.
Границы “общего блага” определяются людьми. “Общее” может быть измерено только в людях, на которых оно распространяется. Я начал с этого вопроса, потому, что он понимается хуже всего. Государство прививает территориальное мышление и “общее” применительно к его “функциям” всегда определяется по территории, то есть, это все, кого угораздило оказаться в государственных границах. Это все равно, как если бы вы собирались на вечеринку и решали, кто должен за нее платить по принципу “все, кто оказался внутри квадрата со сторонами 50 км.” Кстати, только в мире, поделенном по территориальному принципу может появиться идея public goods, в которой границы public никак не определены.
Цели определяют, те, кто скидывается. Само появление идеи “скинуться” возникает из понимания некоторым количеством людей такой необходимости. То есть, процедуре “скидывания” предшествуют, как минимум, две идеи: а)“существует проблема Х”; б)“проблему Х можно решить, если объединить усилия”. Если этих идей не существует, то нет и никакого “скидывания на общие цели”. Иначе говоря, когда то, что является проблемой, требующей финансового участия большого количества людей, определяют не сами эти люди, то невозможно говорить ни о каком “скидывании для решения общей задачи”. Точно так же, те, кто не считает, что проблема Х вообще существует или не считает, что ее можно решить, скинувшись деньгами, не обязаны во всем этом участвовать. Если группа товарищей собирается вскладчину на вечеринку и выбирает ресторан А, а вам не нравится ресторан А, вы не обязаны идти и не обязаны платить.
Размеры взносов определяют те, кто скидывается. Очевидно, что те, кто ставит цели, определяют и средства для их достижения. Собираясь коллективчиком в ресторан, вы будете исходить из финансовых возможностей участников. Невозможна такая ситуация, когда вас силой потащат в некий ресторан, где для оплаты счета вам потребуется продать квартиру. Опять-таки, для ситуации “складчины” немыслимой является картина, когда не те, кто платит, а те, кому платят произвольно определяют размеры платежей и взимают их в принудительном порядке, вне зависимости от вашего потребления “общественного блага”. Я уже не говорю о том, что те, кому платят имеют в нашей реальности вид принудительной монополии, которая прямо запрещает, либо сильно ограничивает вход на рынок своих “услуг”.
Смета предшествует платежу. Это естественное и простое обстоятельство, является, между тем, радикально важным. Невозможно представить себе сбор денег в складчину на цель “вообще”. Тем более невозможно себе представить ситуацию, когда платежи на неопределенное “общее дело” собираются круглый год, образуя денежный поток, а смета, то есть, бюджет, составляется раз в году и являет собой документ, распределяющий этот уже существующий и постоянно генерируемый поток между бенефициарами. Вообще говоря, там где принята “складчина” не может существовать ничего, напоминающего наш бюджет. Большую часть античной истории магистраты не получали денег за свою работу и не потому, что так любили бескорыстно служить родине, а потому, что не было и не могло быть никакого подобия бюджета и образуемых им входящего и исходящего постоянного денежного потока.
Необходим договор. Затевая некое общее дело, его участники обсуждают его и все связанные с ним детали, и если они приходят к соглашению, то это значит, что они становятся участниками договора - устного или письменного. Договор создает границы мероприятия, определяя его участников, их цели и средства. Понятно, что договор не может распространяться на тех, кто в нем не участвует, то есть, тех, кто не разделяет цели или не согласен со средствами. Договор, подразумевающий финансовые обязательства третьей стороны без ее согласия является преступлением и любой суд признает его ничтожным. Договор определяет и характер индивидуальных взносов. Скажем, я могу полагать, что ремонт городских стен требует моего постоянного участия и я готов отдавать 5% от прибыли ежегодно на это дело. Это несколько безрассудное, но вполне возможное поведение. Другие люди могут поступать более рационально - они могут обязаться вносить сумму в зависимости от размера сметы. Все это предмет договора. Отношения же с государством отличаются счастливым (для него) отсутствием каких бы то ни было намеков на договор.
Процедура всегда повторяется заново. “Складчина” не может быть постоянной. Городские стены часто требуют ремонта, но бывает и так, что они находятся в полном порядке. Тогда никаких взносов не требуется. Процедура определения целей, которые могут быть достигнуты в складчину и необходимых для этого средств повторяется всегда “как будто в первый раз”. Взносы в складчину не могут существовать в виде, в котором существуют постоянные налоги. Взносы образуются по потребности и в случае согласия плательщиков.
Право можно делегировать только в отношении себя.В случае регулярных рутинных процедур существует очевидный соблазн упростить себе жизнь путем делегирования полномочий. Однако, в случае складчины, очевидно, что делегировать можно только полномочия в отношении себя. Старая этатистская “отмазка” о том, что представительская демократия это просто такая усовершенствованная форма прямой демократии, которая освобождает граждан от необходимости постоянно посещать народное собрание (и тем самым избавляет их от рутины) не соответствует реальности. Представительская демократия не является неким логическим продолжением или эволюцией прямой демократии. Это вообще разные и никак не связанные между собой формы. Представители в представительской демократии существуют не сами по себе, а при короле. Король облагает налогом своих подданных, этот налог неизбежен. Задача же представителей - выторговать максимальные скидки в налогообложении или если возможно, вообще воспрепятствовать ему.
Насколько не понимается принципиальная разница между прямой и представительской демократией видно на примере исландского альтинга, который считают прародителем парламента. Однако мы не найдем там никаких представителей. В альтинге, а точнее в логретте, (альтинг это просто название летней общеисландской ярмарки) заседали не какие-то представители, а годи, то есть, владельцы 36 исландских юрисдикций. Таким образом, логретта - институт прямой, а не кривой демократии.
Проще говоря, разница между прямой и представительской демократией такова: прямая - это способ определения того, как мы будем платить за свои хотелки, представительская - как мы будем платить за твои (короля или бюрократического аппарата) хотелки.
Думаю, теперь читателю понятна разница между налогами и складчиной и понятен тот факт, что те, кто будет требовать кешбека у предпринимателей, не выполняющих дурацкий закон являются не более, чем презренными стукачами.
P.S. Этот текст никоим образом не является высказыванием в пользу складчины, как универсального метода решения “социальных” проблем или в пользу прямой демократии. Прямая демократия часто бывает гораздо хуже кривой, как и кривая она порождает нездоровые стимулы, кроме того, она имеет естественные ограничения числа участников для того, чтобы быть сколько-нибудь работоспособной.
Владимир Золотoрев
взято отсюда
По иронии судьбы сей законопроект называется "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств"
Самое важное, что там содержится: "Слова «в банках за пределами территории Российской Федерации,» заменить словами «в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации,»"
Иными словами, все счета у зарубежных брокеров теперь придётся декларировать и отчитываться по ним. Ранее я писал о том, что действия ЦБ по ограничению доступа населения к рынку форекс совершаются с целью ограничения возможности работы через зарубежных брокеров, поддержки отечественного товаропроизводителя, так сказать. А главное, легче контролировать и налогооблагать.

Налоговый террор
Jun. 11th, 2019 07:49 pm
В проекте постановления 2019 года добавлено "такие преступления являются длящимися, поэтому срок давности уголовного преследования по ним исчисляется с момента фактического прекращения преступной деятельности, т. е. со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки". Фактически это означает отмену срока давности, при этом с обратной силой. Сам закон формально не меняется, поэтому обратная сила как бы ничему не противоречит. В реальности это будет означать, что можно будет любому предъявить предъявить налоговые претензии за период, по которому у него уже может не быть документов. А, учитывая фактическое отсутствие презумпции невиновности в налоговых вопросах, не очень понятно, как доказывать, что "ты не верблюд". Никакие ссылки на Запад, которые у нас любят предъявлять, мол посмотрите, как у них жёстко с неуплатой налогов, в этом случае не работают. Там сроки давности чётко установлены, при их истечении никаких проверок и доначислений налогов проводить нельзя.
Поводов прицепиться может быть много - сдавали жильё, торговали на финансовых рынках (кроме как на российских), продали кому-нибудь что-нибудь и т.д. и т.п. Понятно, что это вряд ли примет массовый характер, но как инструмент сведения счётов (любых - политических, экономических, личных) легко может использоваться. Не забывайте, что кроме налога вам начислят ещё пени и штрафы, которые, скажем, за 10 лет, могут быть в разы больше самого налога. И всё это куда проще, чем подбрасывать наркотики и оружие.
Пока проект постановления отправлен на доработку. Но надежд на послабления мало. До сих пор всё, связанное с налогообложением, принималось в максимально возможном на тот момент драконовском виде. Да и протестов никаких по этому поводу не слышно.
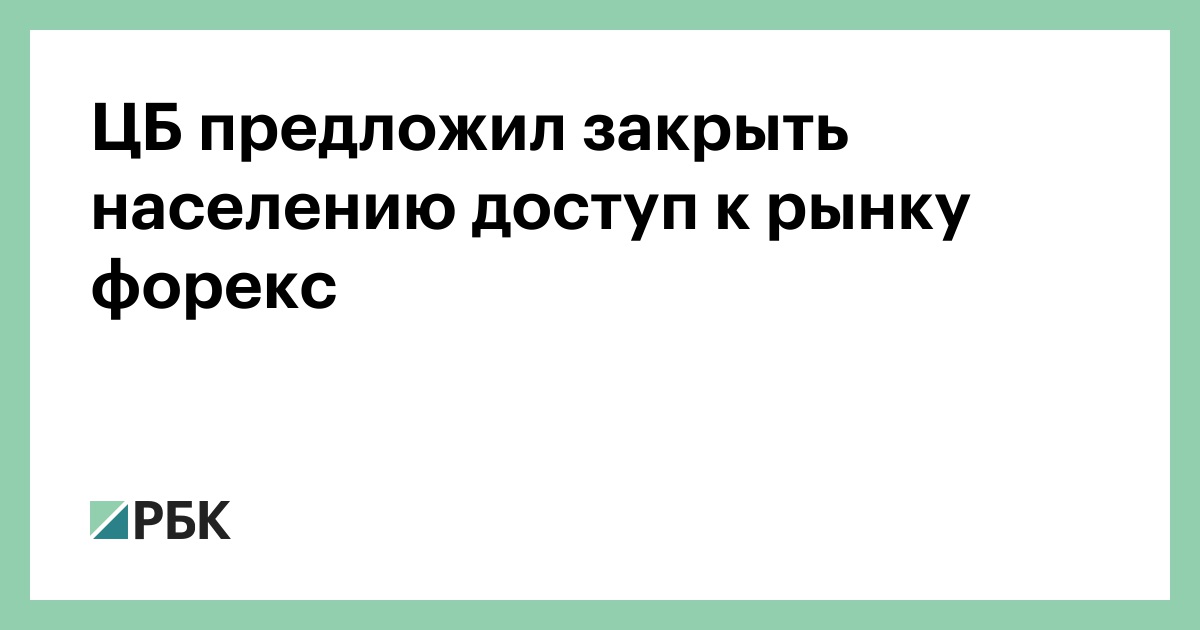
А вот для средних и крупных инвесторов, работающих через серьёзных брокеров, это создаст определённые проблемы, поскольку пополнения и снятия со счёта у них делаются через банковские переводы, которые ЦБ как раз вполне может блокировать. Тут, скажете вы, тоже всё просто, пройдите квалификацию и торгуйте себе на здоровье. А вот тут то собака и зарыта. Это будет чем-то вроде регистрации для самозанятых. ЦБ получит возможность "взять на карандаш" всех средних и крупных спекулянтов. А дальше, всё что угодно. И более плотный налоговый контроль - это самое безобидное. Например, ЦБ, когда будет знать, чьи конкретно переводы проверять, запретить им работать через нелицензированных брокеров (а лицензированные - сплошь отечественный производитель). То есть реальная цель - загнать всех либо на Московскую Биржу (которая сама превратилось в кухоньку, вспомните декабрьский сквиз по нефти), либо к отечественным брокерам. Против последних я ничего не имею, но (!!!), даже о тех, которые мне очень нравились по работе на РФР, я не слышал положительных отзывов по работе на западных рынках. Да и усиленный контроль со стороны государства тоже оптимизма не внушает.
Последнее тоже можно обойти, что многие и будут делать. Например, открыть банковский счет в одной из стран, не присоединившихся к системе автоматического обмена финансовой информацией: США, Тайланд, Черногория и Грузия. И через него пополнять брокерский счёт и выводить с него средства. Но это всё на свой страх и риск. Штраф за то, что вы не зарегистрировали банковский счет в налоговой, достаточно велик и составляет от 75% до 100% от оборота по этому счёту. А, если зарегистрировали, придётся сдавать в налоговую отчёт по нему.
Так что сия инициатива, как и почти все последие инициативы властей, сведётся к тому, чтобы больше контролировать и налогооблагать, ничего нового.

Как сообщают «Ведомости», для обнаружения майнеров планируется создать систему, учитывающую структуру потребления электроэнергии и интернет-трафика. По словам сотрудника одной из крупных энергокомпаний, "у майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, вычислить майнера несложно — достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии". Кроме того, Минкомсвязи РФ займется сопоставлением данных о мощности майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер будет иметь на криптобирже. Для майнеров будут введены специальные тарифы и квоты на электроэнергию, а их деятельность обложат налогом. Для юридических лиц это будет налог на прибыль, какой налог ожидает физических лиц, пока неизвестно. Концепцию контроля за майнингом криптовалют планируется доработать до 1 февраля, а затем направить на рассмотрение в правительство.
Конфискационное налогообложение
May. 23rd, 2017 05:28 pm
Сегодня основным инструментом конфискационного интервенционизма служит налогообложение. Не важно, являются целью обложения налогами имущества и дохода так называемые социальные мотивы выравнивания богатства и доходов или на первом месте стоит сбор государственных доходов. Учитывается только конечный результат.
Средний человек смотрит на все связанные с этим проблемы с нескрываемой завистью. Почему кто-то должен быть богаче, чем он? Высокомерный моралист прячет свою обиду в философских рассуждениях. Он утверждает, что человека, обладающего 10 млн, нельзя сделать более счастливым, добавив ему еще 90 млн. И наоборот, человек, обладающий 100 млн, не ощутит никакого ущерба своему счастью, если его богатство уменьшится на какие-то жалкие 10 млн. То же самое остается в силе и для чрезмерных доходов.
Подобная оценка означает оценку с индивидуалистической точки зрения. Применяемый критерий представляет собой предположительные мнения индивидов. Однако данные проблемы являются проблемами общественными; их необходимо оценивать относительно их общественных последствий. Имеет значение не счастье какого-либо Креза, не его личные достоинства и недостатки; главное это общество и продуктивность человеческих усилий.
Закон, который мешает индивидам накапливать больше, чем 10 млн, или получать больше, чем 1 млн в год, ограничивает активность как раз тех индивидов, которые добиваются наибольших успехов в удовлетворении потребностей потребителей. Если бы этот закон был введен в действие в Соединенных Штатах 50 лет назад, то многие сегодняшние мультимиллионеры жили бы гораздо скромнее. Но все новые отрасли промышленности, снабжающие широкие массы ранее никому не известными изделиями, если и существовали бы, то работали бы с куда меньшим размахом, а их продукция была бы недоступна простому человеку. Любое препятствие, мешающее самым эффективным предпринимателям расширять сферу своей активности до тех пор, пока их руководство делом одобряется публикой в форме покупки их продукции, очевидно противоречит интересам потребителей. Здесь опять встает вопрос о том, кто должен господствовать: потребитель или государство? В условиях свободного рынка в конечном счете именно поведение потребителей совершение ими покупок или воздержание от покупок определяет доход или богатство индивида. Следует ли наделять государство властью господствовать над выбором потребителей?
Неисправимый государственник возражает. По его мнению, деятельность великих предпринимателей направляется не страстью к богатству, а жаждой власти. Такой царственный купец не ограничил бы свою активность, если был бы вынужден отдавать всю заработанную прибыль налоговому инспектору. Его жажду власти нельзя ослабить какими бы то ни было соображениями делания денег. Давайте ради поддержания дискуссии согласимся с этой психологией. Но на чем еще, кроме его богатства, основана власть бизнесмена? Каким образом Рокфеллер или Форд могли бы обрести власть, если бы им помешали обрести богатство? В конце концов, более последовательными являются те государственники, которые стремятся запретить накопление богатства именно потому, что оно дает человеку экономическую власть[Нет необходимости еще раз подчеркивать, что при исследовании экономических вопросов использование терминологии политического господства абсолютно неуместно.].
Налоги необходимы. Но система дискриминационного налогообложения, принятая повсеместно под вводящим в заблуждение названием прогрессивного налогообложения доходов и наследства, не является одним из методов налогообложения. Скорее она представляет собой метод замаскированной экспроприации добившихся успеха капиталистов и предпринимателей. Какие бы доводы ни приводились в ее пользу, она несовместима с сохранением рыночной экономики. В лучшем случае ее можно рассматривать как средство, ведущее к социализму. Оглядываясь на эволюцию ставок подоходного налога от появления федерального подоходного налога в 1913 г. и до наших дней, трудно отделаться от ощущения, что вскоре он поглотит все 100% любого превышения размера заработной платы обычного человека.
Экономиста интересуют не ложные метафизические доктрины, выдвигаемые в пользу налоговой прогрессии, а ее последствия для действия рыночной экономики. Интервенционистски настроенные авторы и политики смотрят на имеющиеся здесь проблемы в свете своих произвольных представлений о том, что является социально желательным. На их взгляд, сбор денег не является целью налогообложения, так как государство способно собрать любые деньги путем их печатания. Подлинная цель налогообложения состоит в том, чтобы меньше осталось в руках налогоплательщика[Cм.: Lerner A.B. The Economics of Control, Principles of Welfare Economics. New York, 1944. P. 307308.].
Экономисты подходят к этой проблеме иначе. Сначала они спрашивают: какое влияние конфискационное налогообложение оказывает на процесс накопления капитала? Большая часть той доли более высокого дохода, которая изымается посредством налогов, была бы использована для накопления дополнительного капитала. Если казначейство использует выручку на текущие расходы, то результатом является снижение масштабов накопления капитала. То же самое имеет силу, и даже в большей степени, в отношении налогов на наследство. Они вынуждают наследников продавать значительную часть имущества наследодателя. Разумеется, этот капитал не уничтожается; он просто меняет собственника. Но сбережения покупателей, которые они расходуют на приобретение капитала, продаваемого наследниками, составили бы чистое приращение имеющегося капитала. Таким образом, накопление капитала замедляется. Процессу технологического совершенствования наносится ущерб; величина инвестированного капитала на одного занятого снижается. На пути роста предельной производительности труда, а соответственно и на пути роста ставок заработной платы, возникает препятствие. Очевидно, что распространенное мнение, что от этого способа конфискационного налогообложения страдают только его непосредственные жертвы, ошибочно.
Если капиталисты сталкиваются с вероятностью, что подоходный налог или налог на имущество повысится до 100%, то они скорее предпочтут проесть свой капитал, чем сохранить его для налогового инспектора.
Конфискационное налогообложение ведет к сдерживанию экономического развития не только вследствие оказываемого им влияния на накопление капитала. Оно формирует общую тенденцию к стагнации и сохранению деловой практики, которая не может продолжаться в конкурентных условиях свободной рыночной экономики.
Неотъемлемой чертой капитализма является тот факт, что он непочтительно относится к имущественным интересам и вынуждает каждого капиталиста и предпринимателя каждый день заново приводить свое дело в соответствие с изменяющейся структурой рынка. Капиталисты и предприниматели не имеют возможности расслабиться хоть на мгновение. До тех пор, пока они остаются в бизнесе, у них никогда не будет привилегии тихо наслаждаться плодами труда своих предков и собственными достижениями и удовлетворяться установившейся практикой. Если они забудут, что их задача состоит в том, чтобы в меру своих способностей служить потребителям, то они лишатся своего выдающегося положения и будут возвращены обратно в категорию простых людей. Новички постоянно бросают вызов их лидерству и капиталу.
Любой изобретательный человек волен начинать собственные деловые проекты. Он может быть беден, средства, находящиеся в его распоряжении, могут быть весьма скромны и большая их часть может быть заемной. Но если он удовлетворяет потребности потребителей наилучшим и наиболее дешевым способом, то он добьется успеха, свидетелем чего будет чрезмерная прибыль. Большую часть прибыли он будет капитализировать в своем предприятии, тем самым заставляя его быстро расти.
Именно активность подобных предприимчивых парвеню сообщает рыночной экономике ее динамизм. Именно эти нувориши являются предвестниками экономической перестройки. Исходящая от них угроза конкуренции вынуждает старые фирмы и крупные корпорации либо корректировать свое поведение с целью наилучшего обслуживания публики, либо уходить из бизнеса.
Однако сегодня налоги часто поглощают большую часть избыточной прибыли новичка. Он не может накопить капитал; он не может расширить свое дело; он никогда не станет крупным предпринимателем и ровней крупным корпорациям. Старым фирмам не нужно бояться его конкуренции; они защищены сборщиком налогов. Они безнаказанно могут работать по шаблону, они могут пренебрегать желаниями публики и становиться консервативными. Безусловно, подоходный налог и им мешает накапливать новый капитал. Но, что для них более важно, он не позволяет опасным новичкам накопить вообще какой-либо капитал. Фактически с помощью налоговой системы старые фирмы оказались в привилегированном положении. В этом смысле прогрессивное налогообложение сдерживает экономическое развитие и ведет к окостенению. Если в свободном капитализме владение капиталом представляет собой обязанность, вынуждающую собственника служить потребителям, современные методы налогообложения трансформировали его в привилегию.
Интервенционисты жалуются, что большой бизнес впадает в состояние застоя и бюрократизируется, а компетентный новичок больше не имеет возможности бросить вызов капиталовложениям старых богатых династий. Однако насколько их жалобы оправданны? Ведь они сокрушаются по поводу того, что явилось результатом их собственной политики.
Прибыль является движущей силой рыночной экономики. Чем выше прибыль, тем лучше обеспечиваются нужды потребителей, так как прибыль можно получить, только устранив несоответствие между спросом потребителей и предыдущим состоянием производственной деятельности. Кто лучше обслуживает публику, тот и получает максимальные прибыли. Борясь с прибылью, государство сознательно подрывает функционирование рыночной экономики.
Людвиг Фон Мизес "Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории"